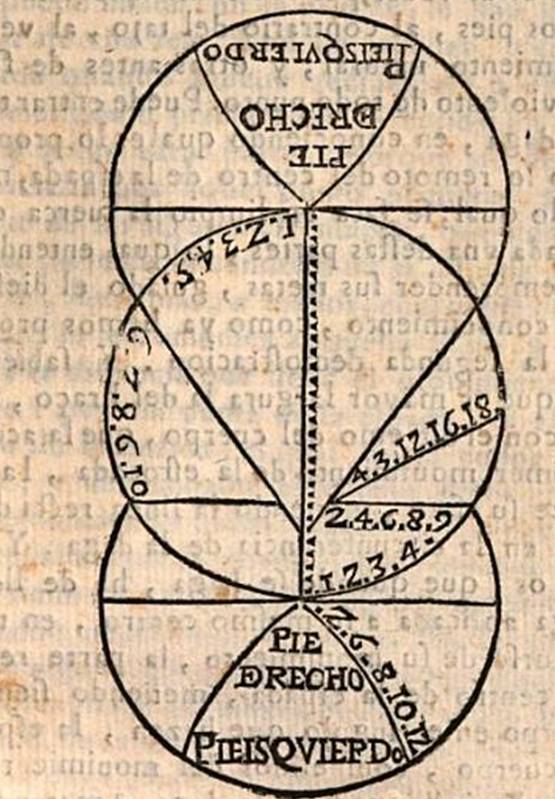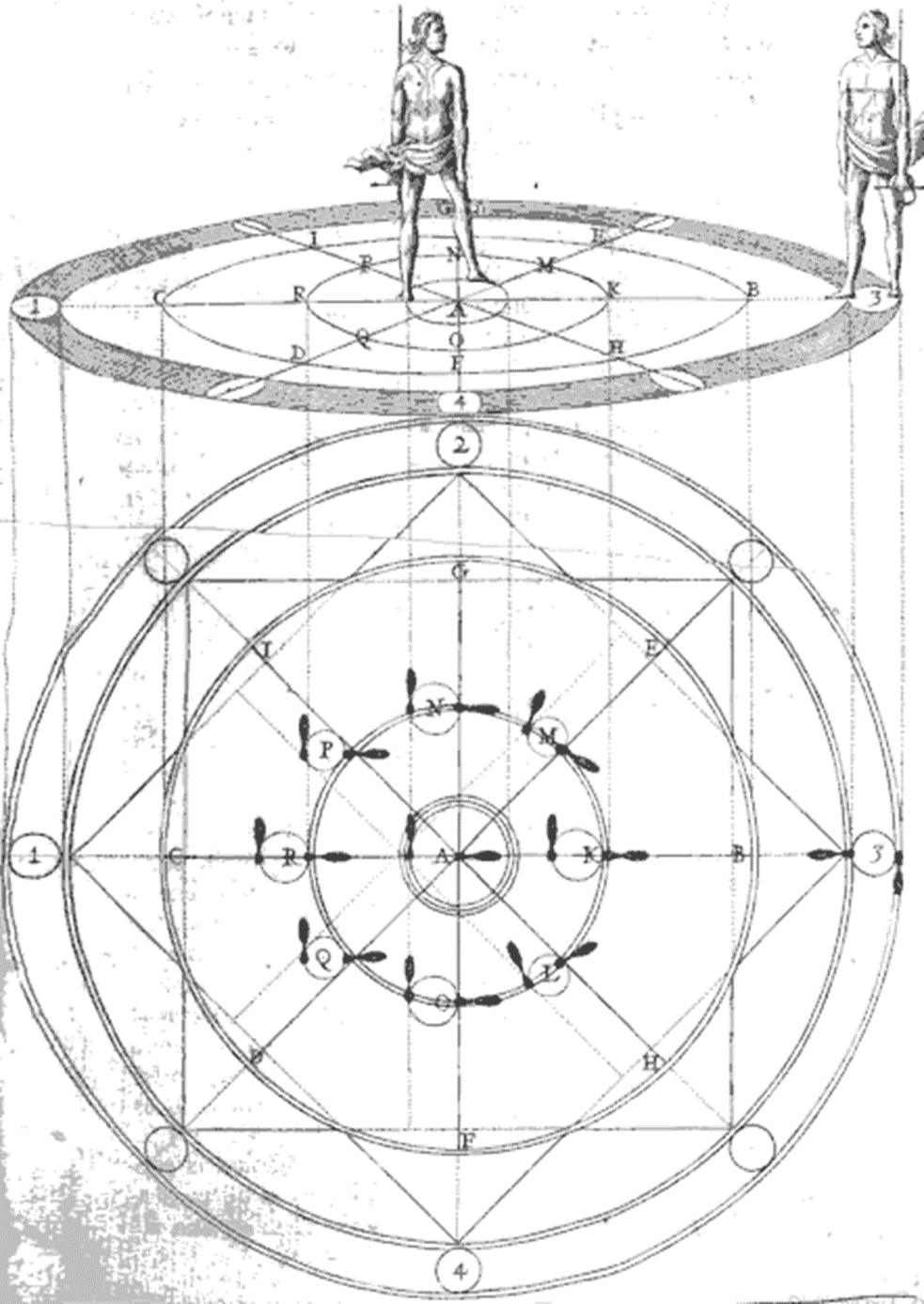Про шильдбюргеров - снова
Apr. 3rd, 2017 09:22 pmСовременный израильтянин отличается прагматичностью и стремлением к ясности; он не любит витать в эмпиреях. Если профессия или область знания не дает ясной и ощутимой отдачи, она второсортная, ущербная, лишняя и не стоит внимания серьезных людей. Оттого на многие области знания и профессии смотрит израильтянин свысока, снисходительно. Если вообще удостоит их высочайшим вниманием. Разумеется, всегда найдутся чудаки, исключения из правил, или те, кто может позволить себе баловство и прихоти. Изредка встречаются вполне целеустремленные люди. Они твердо знают, зачем им это странное занятие.
Но так к истории здесь относились далеко не всегда. Когда-то она не была кабинетной дисциплиной. Не была она и прихотью. На историю смотрели так же приземленно, но куда более заинтересованно, и практическая польза от нее была вполне ясна. Само государство появилось не без помощи этой странной кабинетной дисциплины, и многие военные, политики, видные чиновники, партийные функционеры, серые кардиналы, идеологи и их противники, социалисты, правые националисты, светские и религиозные искали в истории практических уроков, рецептов, решений, средства от прежних и нынешних политических, экономических, военных ошибок и трудностей. История была справочником - с одной стороны "как надо", а с другой - "ни в коем случае так не делай!". Этот взгляд может показаться грубым, примитивным и схематичным, но он оказался достаточно рациональным и жизненным.
Сегодня от тех прежних представлений мало что осталось. Израильтяне старшего поколения изредка могут выдать что-то этакое. Но обстоятельства должны быть какие-то совсем невероятные. На моей памяти, последний такой пример имел место несколько лет назад. По результатам очередного обсуждения "мирного процесса", один израильский генерал (кажется, Яалон) выдал тогдашнему штатовскому госсекретарю Керри, что тот "мессианец" и идеи у него - соответствующие. Керри его просто не понял, да и вообще мало кто понял, о чем речь. По гамбургскому-то счету, американца назвали человеком совершенно неадекватным и к практической политике - за невменяемостью - непригодным. Однако старое сионистское ругательство, с которым некогда нападали и на самого Бен-Гуриона, никакого впечатления на Керри и всех прочих официальных лиц не произвело. Самому Керри обидным оно, кажется, и вовсе не показалось. И это неудивительно - при нынешней всемирной моде на мессианство это даже комлимент. Слишком многие хотят видеть себя спасителями целого мира и его окрестностей - с минимумом личного дискомфорта и совершеннейше наплевательским отношением к последствиям. А лет так пятьдесят тому вышел бы славный скандал с битьем посуды и руганью на всю местную прессу, а то и на всю американскую.
Дело в том, что в те стародавние времена многие сионисты, ознакомившись с историческими источниками и кое-какими общими работами, пришли к неутешительному выводу, что мессианство страшное зло для еврейского народа, и проку от него почти не было, а вот катастроф и прочих неприятностей было сколько угодно. Оттого у всех прожектов, которые как-то это мессианство напоминали, и всех идеек про особую роль и миссию обнаружилось множество довольно последовательных, весьма неглупых и волевых противников. Доходило до смешного: один из местных философов упрекал в гордыне и мессианстве самого Бен-Гуриона со словами а-ля "грех стоит у ворот твоих!" Если учесть, что этот же философ взял себе псевдоним в честь семейства, имевшего прямое касательство ко Второму Храму, вся сцена была чистейшей пелевенщиной. Но мессианству давали отпор.
Нынче же времена переменились. История в том узко-практическом смысле больше не в чести. Оттого и неудивительно влияние мессианцев в израилськой политике, и торжество неадекватных личностей в мировом масштабе столь же неслучайно, сколь и очевидно. Быть неадекватным теперь почетно. И так, вероятно, будет вплоть до ближайшей Третьей Мировой.